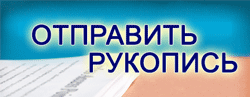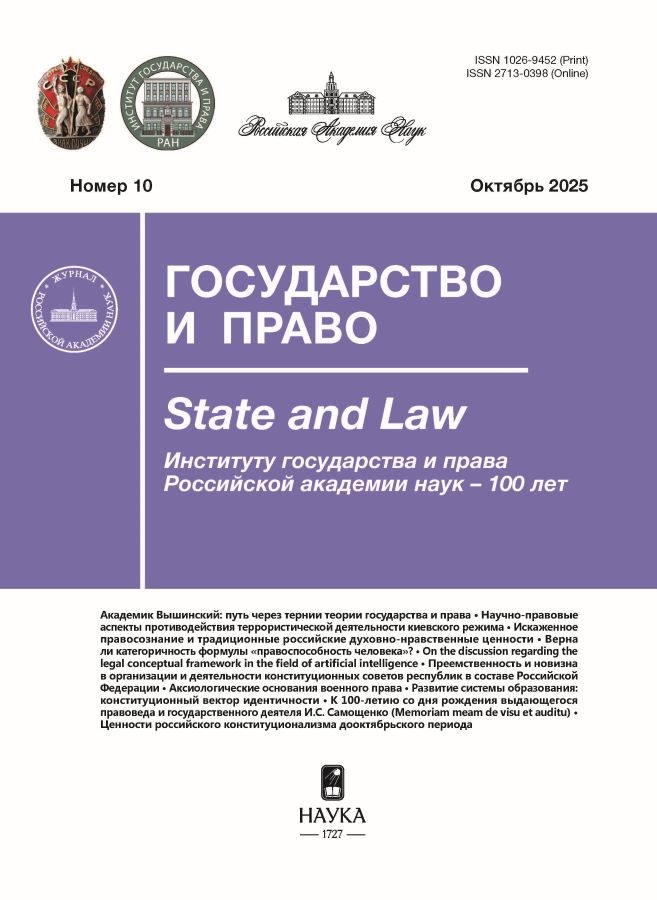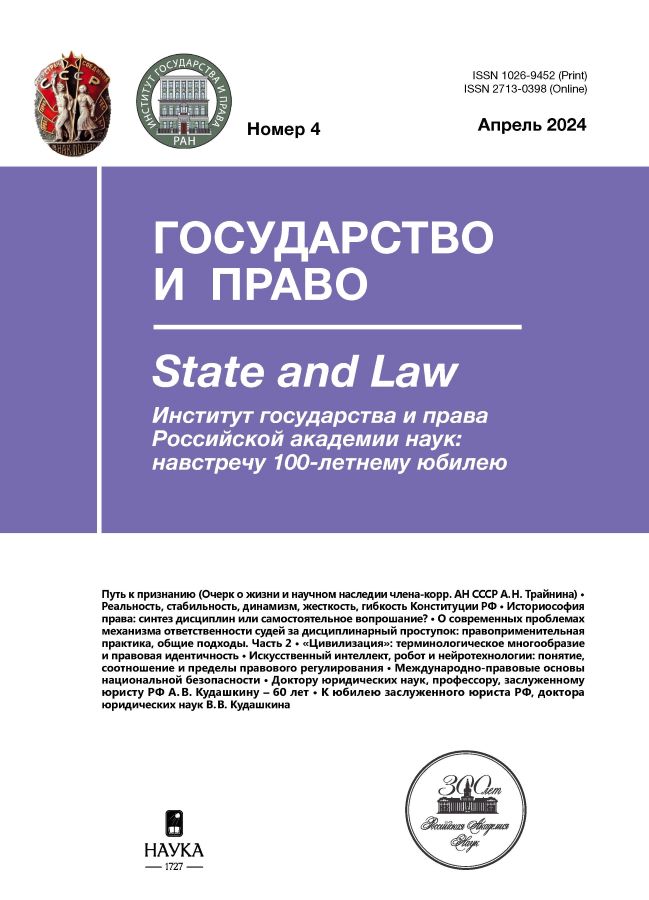Историософия права: синтез дисциплин или самостоятельное вопрошание?
- Авторы: Бочкарёв С.А.1
-
Учреждения:
- Институт государства и права Российской академии наук
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 56-66
- Раздел: Философия права
- URL: https://rjmseer.com/1026-9452/article/view/648958
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224040036
- ID: 648958
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье исследован вопрос о сущности историософии как познавательной дисциплины. По итогам выяснено, что ее возможности реализуются не путем синтезирования предметов разных наук (истории, философии и права), а через автономный и самодостаточный круг вопросов, имеющих метафизическое происхождение и ноосферное наполнение. Речь идет о смысловой области, где право рассматривается с позиции «было», а не «вчера». В этой связи спрашивают: а было ли в праве «было» и способно ли это «было» еще быть? Найденное ему в жизни подобие оценивают на предмет того, являлось ли оно мгновением, преходящей иллюзией, а возможно, и вовсе «ничем»? Либо ухваченное «было» являлось самим бытием, которое взяло начало в прошлом, но никуда не ушло и имеет продолжение в сущем? В результате выясняется, чтó в праве ведет его к «исторической скоротечности», а чтó в нем обеспечивает его «внеисторическое присутствие» в бытии.
Исследование также показало, что основной и структурообразующей категорией историософии является время, о котором в современном правоведении задумываются нечасто. Юриспруденция в основном увлечена периодами, промежутками и сроками, а не временем как таковым. Упущение времени и знаний о нем оставило правоведение стоять на абсолютистской и отвлеченной концепции Ньютона, которая никогда не воспроизводила представления о времени, основанные на реальности. Теория заигралась с физической стороной времени и упустила его социально-психологическое измерение, то есть то, что жизнь есть главный сосуд времени, единственный источник его наполнения и ключевое средство истощения. Жизнь атомов, так же как и жизнь правовых благ, является не только источником их бытия, но и продолжительности этого бытия. В свою очередь, время есть основополагающий критерий жизнеспособности правовых благ.
Ключевые слова
Полный текст
Об авторах
Сергей Александрович Бочкарёв
Институт государства и права Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: bo4karvs@yandex.ru
доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук
Россия, 119019 г. Москва, ул. Знаменка, д. 10Список литературы
- Аристотель. Соч.: в 4 т. М., 1988. Т. 3. С. 145–147.
- Бергсон А. Творческая эволюция. М., 2001. С. 41, 42, 46, 290.
- Бердяев Н. А. Философия свободы / сост., вступ. ст. и коммент. В. В. Шкоды. М., 2004. С. 445, 446.
- Бибихин В. В. Собр. соч. Т. 2: Введению в философию права. М., 2013. С. 64.
- Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 132–134, 226, 229, 248, 328, 361.
- Волк И. В. Право, время и пространство: теоретический аспект: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
- Ильин И. А. Спасение в цельности // Почему мы верим в Россию: соч. М., 2006. С. 767–774.
- Кочеткова Е. А. Соотношение категорий право и время // Труды Оренбургского ин-та (филиала) МГЮА. 2022. № 1 (51). С. 42–46.
- Крашенинников П. Времена и право. М., 2016.
- Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: в 2 т. М., 2010. Т. 1. С. 178, 233; т. 2. С. 536.
- Левицкий С. А. Метафизика временного процесса // Трагедия свободы: избр. произведения; вступ. ст., сост. и коммент. В. В. Сапова. М., 2008. С. 154.
- Мамардашвили М. Вильнюсские лекции по социальной философии (Опыт физической метафизики). СПб., 2012. С. 29.
- Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 2 т. М., 2010. Т. 1. С. 52.
- Плотин. Третья эннеада / пер. с древнегреч. Т. Г. Сидаша. СПб., 2004. С. 392–394.
- Ренан Э. Собр. соч.: в 12 т. / пер. с франц. под ред. В. Н. Михайлова. Киев, 1902. Т. VII. С. 189, 215.
- Риккерт Г. Философия жизни. Киев, 1998. С. 271.
- Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия / вступ. ст. А. Н. Голубева, Л. В. Коноваловой. М., 1996. С. 313.
- Соловьев B. C. Россия и вселенская церковь // Соловьев В. С. Собр. соч. М., 1911. С. 303, 304.
- Сорокин П. А. Социология революции. М., 2008. С. 26.
- Тенилова Т. Л. Время в праве. Н. Новгород, 2001.
- Тойнби А.Дж. Постижение истории / пер. с англ. Е. Д. Жаркова. М., 2010. С. 22.
- Тюрго А. Избр. произведения. М., 1937. С. 77, 78.
- Уэллс Г. Очерки истории цивилизации. М., 2004. С. 9.
- Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 30.
- Ясперс К. Истоки и ее цель // Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 31.
- Bergson H. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris, 1909.
- Kras О. Franz Brentano. München, 1919. Ss. 49, 50.
- Locke J. An essay concerning human understanding. London, 1825.
- Simmel G. Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. München; Leipzig, 1922. S. 11.
- Trummer C. Zur Philosophie des Rechts und insbesondere des Strafrechts: besonders aus den crimenistischen Beiträgen abgedruckt. Hamburg, 1827.
Дополнительные файлы