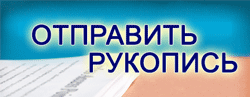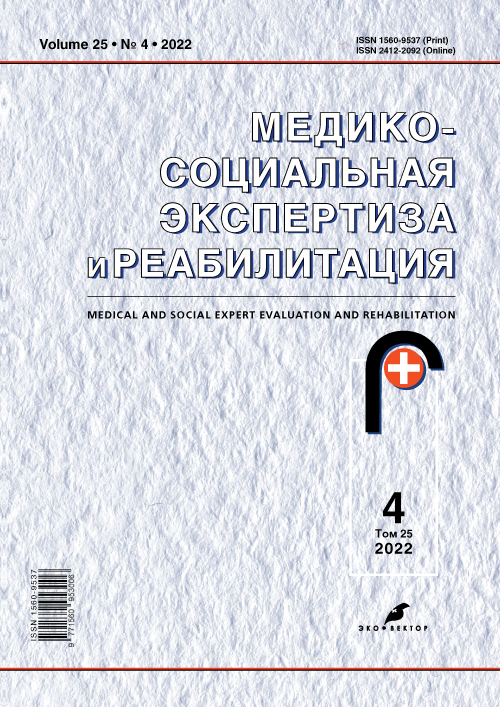Алгоритм классификации фаз и стадий сна у пациентов с хроническими нарушениями сознания на основе логического искусственного интеллекта
- Авторы: Некрасова Ю.Ю.1, Борисов И.В.1, Канарский М.М.1, Прадхан П.1,2, Майорова Л.А.1,3, Редкин И.В.1, Сорокина В.С.1
-
Учреждения:
- Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии
- Российский университет дружбы народов (РУДН)
- Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук
- Выпуск: Том 25, № 4 (2022)
- Страницы: 259-270
- Раздел: Оригинальные исследования
- URL: https://rjmseer.com/1560-9537/article/view/114808
- DOI: https://doi.org/10.17816/MSER114808
- ID: 114808
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обоснование. Анализ паттернов сна у пациентов с хроническими нарушениями сознания привлекает все большее внимание с точки зрения диагностики, прогноза и терапии тяжёлого повреждения головного мозга. В работе представлено описание программного комплекса на основе экспертной системы искусственного интеллекта, предназначенного для классификации фаз и стадий сна, с учётом особенностей нарушенной корковой ритмики у таких пациентов.
Цель. Разработка специализированного, ориентированного на пациентов с хроническим нарушением сознания, программного комплекса на основе искусственного интеллекта для автоматической классификации фаз и стадий сна с акцентом на выделение сонных веретён, фаз медленного и быстрого сна.
Материалы и методы. Для проверки корректности работы программного комплекса был выполнен анализ ROC-кривых в рамках бинарной классификации медленного сна, быстрого сна и бодрствования.
Результаты. Средняя чувствительность и специфичность алгоритма составляют 87,9 и 70,1 соответственно. Средняя площадь под ROC-кривой — 0,790. Низкую специфичность при высокой чувствительности демонстрирует алгоритм определения фазы быстрого сна, что связано с его графоэлементным сходством с фазой бодрствования, а также нерегулярностью наличия быстрых движений глаз в фазе REM-сна у пациентов с хроническими нарушениями сознания и в то же время с частым присутствием нистагма в состоянии бодрствования. Информация о наличии нистагма, вводимая на старте работы программы, позволила несколько повысить показатели эффективности алгоритма, однако, вероятно, этот аспект нуждается в дальнейшей доработке.
Заключение. Наличие программного комплекса, учитывающего особенности электроэнцефалографии пациентов с хроническими нарушениями сознания и проводящего анализ сна и бодрствования в автоматическом режиме, могло бы не только быть полезным в качестве диагностического инструмента для невролога и сомнолога, но и способствовать более широкому распространению этой методики в клинической практике.
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
Эпидемиологический переход, наблюдаемый в западных странах, приводит к увеличению числа больных, переживших тяжёлое приобретённое повреждение головного мозга, вызванное черепно-мозговой травмой, сосудистыми катастрофами, глобальной ишемией и т.д. В первые дни после события тяжёлое повреждение головного мозга обычно вызывает коматозное состояние, которое, по сути, является транзиторным острым нарушением сознания, разрешающимся в 12–14% случаев [1] хроническим нарушением сознания (ХНС). ХНС характеризуется наличием бодрствования на фоне полного или почти полного отсутствия содержания сознания (осознанности). Осознанность обычно проявляется в интенциональном поведении, отсутствие которого в настоящее время интерпретируется как признак отсутствия восприятия себя и окружающего.
К ХНС относятся, в частности, вегетативное состояние (ВС) [2], или, согласно современной терминологии, синдром безответного бодрствования [3], и состояние минимального сознания (СМС) [4]. Наряду с отсутствием преднамеренного поведения у больных в ВС отсутствуют признаки целенаправленного реагирования на внешние раздражители, понимания речи и поддержания внимания при нерегулярном чередовании состояний сна и бодрствования [5]. Они не контролируют функции тазовых органов и имеют частично или полностью сохранные стволовые и спинномозговые рефлексы. Состояние минимального сознания — клиническое состояние, сопровождающееся выраженными нарушениями сознания, при котором тем не менее имеются отчётливые, хотя и минимальные и часто неустойчивые, признаки интенционального поведения [6]. Пациенты в СМС могут фиксировать взгляд на значимом объекте и демонстрировать эмоциональные реакции, такие как улыбка или плач, в ответ на стимулы в случае «минусовой» формы либо следовать инструкциям и давать простой ответ на вопрос (например, «да/нет») с помощью жестов в случае «плюсовой» формы.
Среди возможных нейрофизиологических маркеров ВС и СМС всё большее внимание привлекает анализ паттернов сна — как с точки зрения диагностики и прогноза заболевания, так и с точки зрения терапии. Нейрофизиология сна, хорошо изученная у здоровых людей, позволяет предположить, что наличие сна коррелирует с нормальными когнитивными и эмоциональными процессами в состоянии бодрствования [7], способствует консолидации памяти [8], гормональной регуляции [9] и функционированию иммунной системы [10]. Поэтому можно предполагать, что частичное или полное восстановление нарушенного сна повлечёт за собой повышение вероятности восстановления сознания.
Ряд исследователей полагают, что наличие и характер сна могут считаться одними из наиболее эффективных предикторов исхода ВС и СМС [11, 12]. В 2020 г. Европейской академией неврологии было выпущено руководство по диагностике комы и других нарушений сознания [13]. Руководство рассматривает поиск паттернов сна (в особенности медленноволнового и быстрого) в качестве одного из методов комплексной мультимодальной диагностики нарушений сознания, в частности, при постановке дифференциальных диагнозов между ВС и СМС. В руководстве также отмечается, что анализ электроэнцефалографии (ЭЭГ) с применением методов машинного обучения может стать дополнительным уточняющим фактором.
Ясно, что анализ сна у пациентов с ХНС является крайне актуальной задачей. Однако результаты исследований в этой области, отражённые в открытой печати, зачастую являются разнородными и противоречивыми. До 2015 года рассматриваемой теме было посвящено относительно небольшое количество публикаций [14–20], касавшихся в основном выявления различных стадий сна у пациентов в ВС, в особенности стадии быстрого сна (REM-сон) [20, 21]. В ряде случаев также отмечался медленный сон [14, 15], однако большинство исследователей описывали смену фаз сна как дезорганизованную и непредсказуемую, не соответствующую циркадным циклам здорового человека [22]. В некоторых исследованиях у пациентов в ВС физиологических признаков сна не отмечалось вовсе, однако при этом присутствовали поведенческие признаки цикла «сон/бодрствование» [23]. Isono et al. зафиксировали наличие в основном I и II стадий медленного сна [18], тогда как в работе Cologan et al. [12] отмечается, что сонные веретёна, являющиеся одним из основных признаков II стадии медленного сна, отсутствуют более чем в половине случаев. Landsness et al. [23] отрицают факт наличия каких бы то ни было признаков сна у наблюдаемых пациентов, тогда как Bedini et al. [24] отмечают цикличность сна и наличие отдельных признаков у всех испытуемых. Arnaldi et al. [25] не зафиксировали признаки медленного сна ни у одного пациента, в то время как быстрый сон отмечался в 15% случаев. В работе Bedini et al. [24], напротив, медленный сон превалирует по частоте встречаемости над быстрым сном. В работе Pavlov et al. [22] исследовались 15 пациентов, среди которых у 13 были выявлены признаки I стадии, у 14 — II стадии, у 9 — III стадии медленного сна. У 10 пациентов наблюдался REM-сон. Сонные веретёна отмечались у 5 пациентов. Исследование проводилось с помощью ручного маркирования совместно со спектральным анализом.
С 2015 г. исследований, посвящённых сну пациентов с ХНС, стало значительно больше. Так, Rossi Sebastiano et al. в 2018 году расширили ранее проведённое ими же исследование 85 пациентов с ХНС [26]. Ночное мониторирование (полисомнография, ПСГ) показало, что у 19 из 49 пациентов с диагнозом ВС ослабление амплитуды сигнала было единственным признаком сна. У пациентов с диагнозом СМС отмечались различные стадии медленного сна, что, по мнению авторов, может считаться одним из критериев при постановке диагнозов ВС или СМС [27].
Цель исследования — разработка специализированного, ориентированного на пациентов с хроническим нарушением сознания, программного комплекса (ПК) на основе искусственного интеллекта для автоматической классификации фаз и стадий сна с акцентом на выделение сонных веретён, фаз медленного и быстрого сна. ПК призван помочь нейрофизиологам в кропотливой работе по расшифровке длительных записей электроэнцефалографии, предоставить второе мнение и в целом повысить точность диагностики.
Практической задачей, стоявшей перед разработчиками ПК, являлось обнаружение характерных графоэлементов, являющихся признаками сна, таких так сонные веретёна, медленные волны, К-комплексы и пр., расчёт индексов альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмов, средних значений амплитуд сигналов ЭЭГ, подбородочной электромиографии (ЭМГ) и электроокулографии (ЭОГ), на основании чего ПК с использованием методов искусственного интеллекта (ИИ) классифицирует эпохи, присваивая им метки той или иной стадии сна и формируя в результате гипнограмму пациента, а также ряд выходных расчётных параметров, таких как общая длительность сна, длительность фаз и стадий, степень консолидации сна.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 40 пациентов Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии с установленным ХНС и подтверждением диагноза по шкале CRS-R. Критерии включения предполагали наличие нарушений сознания вследствие тяжёлых повреждений головного мозга различной этиологии, таких как черепно-мозговая травма (ЧМТ), аноксическое поражение головного мозга (глобальная ишемия), сосудистые катастрофы, и осложнений нейрохирургических операций с нарушением сознания вплоть до ВС и СМС. Возраст пациентов составлял от 18 до 70 лет с учётом разбивки на группы. Время от события, повлёкшего нарушение сознания, составляло не менее одного месяца.
Критериями исключения являлись возраст старше 70 лет, эпилепсия, миоклонус, нестабильность гемодинамики, необходимость искусственной вентиляции лёгких, которая может отрицательно сказаться на качестве сна [28]. Ни один из пациентов на момент проведения исследования не получал транквилизаторы, барбитураты, нейролептики или антидепрессанты.
Для получения записей ЭЭГ сна использовались полисомнографические данные, полученные в течение ночи — с вечера предыдущего дня до утра следующего дня. Данные были получены с помощью системы SOMNOscreen™ plus. Регистрация ЭЭГ осуществлялась с помощью шести электродов Ag/AgCl, размещённых в соответствии со стандартной системой 10/20. В качестве ЭОГ применялись два канала в перекрёстном монтаже. Один канал использовался для регистрации подбородочной ЭМГ. Во время записи импедансы ПСГ электродов поддерживались на уровне не выше 5 кОм.
Для написания программного обеспечения использовались открытые библиотеки для языка Python, такие как NumPy, SciPy, Matplotlib, MNE. Сигнал полисомнографа, включающий 14 каналов ЭЭГ, два канала ЭОГ и один канал ЭМГ, подвергался фильтрации в различных диапазонах в зависимости от типа сигнала, а также удалению артефактов ЭОГ, ЭМГ и ЭКГ методом независимых компонент. Последнее является возможным в связи с наличием отдельных каналов для каждого из упомянутых сигналов, благодаря чему алгоритм может выделить их в качестве отдельных компонент и удалить из сигналов головных электродов.
Далее сигнал разбивался на 30-секундные эпохи, в пределах которых осуществлялся поиск возможных графоэлементов, таких как сонные веретёна, медленные волны, быстрые движения глаз, колебания в альфа-, бета-, дельта- и тета-диапазонах (2–7 Гц).
Осуществлялись расчёты индексов указанных ритмов, рассчитывающихся как время детектированного колебания, отнесённое к общему времени эпохи, выраженное в процентах.
В основу алгоритма поиска сонных веретён был положен известный алгоритм А7 [29]. Алгоритм А7 в целом показал более высокую полноту (recall) и F1-меру в сравнении с аналогами. Для обнаружения веретён в А7 рассчитывалось четыре значения: абсолютная мощность сигма-ритма (11–16 Гц), мощность сигма-ритма относительно широкодиапазонного сигнала (0,5–30 Гц), корреляция и ковариация сигналов в широком и сигма-диапазоне. Отличие используемого в данной работе алгоритма от А7 заключается в мультиканальности (поиск веретён осуществляется не по одному каналу, а сразу по нескольким, что повышает точность результатов), а также в замене таких показателей, как абсолютная мощность сигма-ритма и ковариация сигналов, расчётом скользящего среднеквадратичного значения сигнала, что позволяет оценить увеличение мощности ритма при наличии в скользящем окне сонного веретена. Учитывая общее замедление ритма у пациентов с ХНС, поиск веретён осуществлялся дополнительно не только в сигма-диапазоне (11–16 Гц), но и на более медленных частотах, а именно в диапазоне 5–10 Гц.
Для фильтрации сигналов в указанных диапазонах использовались фильтры с конечной импульсной характеристикой. Относительная мощность сигма-ритма рассчитывалась методом оконного преобразования Фурье (STFT — от англ. short-term Fourier transform). Для детектирования веретён в качестве порогового значения относительной мощности сигма-ритма была выбрана величина 0,25, что означает, что более 25% мощности сигнала при наличии в скользящем окне веретена содержится в сигма-диапазоне. Для расчёта средней частоты и абсолютной мощности каждого веретена использовалось преобразование Гильберта. Алгоритм даёт возможность задать длительность искомых веретён, а также подсчитать индекс симметричности и число отдельных осцилляций в составе каждого веретена [30], что позволяет выявить особенности и характер сонных веретён у пациентов в ВС и СМС.
Для расчёта корреляции между широкодиапазонным сигналом и сигналом в сигма-диапазоне, полученным после фильтрации, использовался коэффициент корреляции Пирсона. Пороговое значение коэффициента корреляции принималось равным 0,65.
Порог среднеквадратичного значения сигнала (RMSthresh) рассчитывался как:
RMSthresh=RMSmean +1,5RMSstd, (1)
где RMSmean — средний показатель среднеквадратичного значения амплитуды сигнала в сигма-диапазоне по всем окнам, RMSstd — стандартное отклонение среднеквадратичного значения по всем окнам. RMSstd рассчитывается при условии отбрасывания погрешностей, превышающих 10% от рассчитанного среднеквадратичного значения, для снижения возможного негативного влияния артефактов. В данной работе значение порога среднеквадратичного значения составило 2,5.
Каждая точка данных, превышающая все три порога, рассматривалась как точка потенциального сонного веретена. Далее из полученного результата отбраковываются веретёна, длительность которых выходит за заданные границы. Веретёна, расположенные в пределах 500 мс друг от друга, рассматриваются как одно веретено. В качестве приемлемой длительности веретён выбрано значение свыше 0,3 с и ниже 2 с, учитывая возможное этого параметра у данной категории испытуемых по сравнению с неврологически здоровыми пациентами. Пример работы алгоритма представлен на рис. 1. Видно, что среди многих веретёноподобных колебаний алгоритм выделил лишь подходящие по длительности и частоте, согласно заданным характеристикам, описанным выше.
Рис. 1. Двадцатисекундная эпоха сигнала электроэнцефалографии в отведении С3/А2.
Примечание (здесь и на рис. 3). Красным выделены сонные веретёна, обнаруженные алгоритмом. В таблице приведены значения основных характеристик найденных веретён.
Fig. 1. Twenty-second epoch of the electroencephalography signal in lead C3/A2.
Note (here and Fig. 3). The sleep spindles detected by the algorithm are highlighted in red. The table shows the values of the main characteristics of the found spindles.
В основу алгоритма поиска медленных волн положены исследования Massimini et al. [31] и Carrier et al. [32]. Согласно этим исследованиям, медленные волны, возникающие во время сна, представляют собой чередующиеся процессы гипер- и деполяризации нейронов, распространяющиеся от источника по всему скальпу. И если во время гиперполяризации (несколько сотен мс) синаптическая активность нейронов снижена, то во время деполяризации таламокортикальная система находится в более возбуждённом состоянии, чем во время активного бодрствования. Таким образом, медленная волна на ЭЭГ представляет собой отрицательный пик с амплитудой от –40 до –300 мкВ и следующий за ним положительный пик с амплитудой от 10 до 200 мкВ. Длительность отрицательной фазы составляет не менее 300 мс (рис. 2).
Рис. 2. Общий вид медленной волны в записи электроэнцефалографии.
Fig. 2. General view of the slow wave in the electroencephalography record.
Таким образом, для обнаружения медленных волн использовался следующий алгоритм:
1) фильтрация исходного сигнала в дельта-диапазоне (от 0,3 до 3,5 Гц) с помощью фильтра с конечной импульсной характеристикой;
2) обнаружение отрицательных пиков, удовлетворяющих вышеуказанным критериям в отфильтрованном сигнале;
3) поиск следующих за ними ближайших положительных пиков и расчёт необходимых метрик, таких как амплитуда от пика до пика, длительность отрицательной и положительной фаз и пр. Волны, не удовлетворяющие критериям, указанным выше, исключаются из рассмотрения;
4) расчёт характеристик обнаруженных медленных волн.
Алгоритм также позволяет провести расчёт относительной мощности медленных волн с использованием STFT применительно к целому сигналу или отдельным эпохам.
С помощью данного алгоритма из рассмотрения исключаются такие артефакты, как дрейф базовой линии и прочие случайные колебания в медленноволновом диапазоне. Пример работы алгоритма представлен на рис. 3.
Рис. 3. Десятисекундная эпоха сигнала электроэнцефалографии в отведении F3/А2.
Fig. 3. Ten-second epoch of the electroencephalography signal in lead F3/A2.
Детектирование альфа- и бета-ритма осуществлялось аналогично детектированию сонных веретён, за исключением расчёта среднеквадратичного значения. Пример работы алгоритма представлен на рис. 4.
Рис. 4. Тридцатисекундная эпоха сигнала электроэнцефалографии в отведении О2 (a) и двадцатисекундная эпоха сигнала электроэнцефалографии с мышечным артефактом в бета-диапазоне (b).
Fig. 4. Thirty-second epoch of the electroencephalography signal in lead O2 (a) and twenty-second epoch of the electroencephalography signal with muscle artifact in the beta range (b).
Быстрые движения глаз, являющиеся основным признаком REM-сна, определялись, согласно работе Agarwal et al. [33], как колебания, присутствующие одновременно в двух каналах ЭОГ, резко изменяющиеся по амплитуде в разные стороны относительно базовой линии. Для каждого отсчёта по времени рассчитывается отрицательное произведение:
С(n)=–LOC(n)×ROC(n), (2)
где LOC(n) — значение сигнала с левого электрода ЭОГ (от англ. left outer canthus) при отсчёте n во времени, ROC(n) — значение сигнала с правого электрода ЭОГ (от англ. right outer canthus) при отсчёте n во времени. Значения С(n) менее 10 мкВ не учитываются и заменяются нулём. Далее осуществляется детектирование пиков кривой С(n). Пример работы алгоритма и основные параметры быстрых движений глаз, полученные в записи сигнала ЭОГ, приведены на рис. 5.
Рис. 5. Быстрые движения глаз, детектированные в пределах тридцатисекундной эпохи, и их основные параметры.
Fig. 5. Rapid eye movements detected within a thirty-second epoch and their main parameters.
По данным проведённых расчётов формировался вектор признаков, являвшийся основой для отнесения данной эпохи к той или иной стадии сна. Классификация осуществлялась посредством задания логических функций и пороговых значений в соответствии с критериями R&K [34], которые представлены в виде совокупности знаний (правила «если — то») для экспертной системы. Основным преимуществом программного обеспечения ИИ на основе экспертной системы является полная прозрачность процесса классификации и адаптивность правил «если — то» для пациентов с ХНС.
Для повышения точности работы ПК и учёта особенностей корковой ритмики пациентов с ХНС в программу вводятся вручную данные анализа фоновой ЭЭГ (в состоянии бодрствования) для каждого пациента, а именно: частота и амплитуда ритма, наличие/отсутствие нистагма и особенности работы нервно-мышечного аппарата (наличие тризмов и тиков). Эти данные в дальнейшем используются системой ИИ для сравнения с последующими эпохами.
По результатам работы алгоритмов возможно автоматическое построение гипнограммы с расчётом времени каждой из стадий сна, изменения индексов различных ритмов на протяжении времени записи и прочих параметров, необходимых для подробного анализа цикла «сон/ бодрствование». Пример гипнограммы, построенной с использованием ПК, приведён на рис. 6.
Рис. 6. Пример гипнограммы, полученной с помощью программного комплекса, для пациента с хроническим нарушением сознания
Примечание. 0 — бодрствование; 1 — стадия I; 2 — стадия II; 3 и 4 — стадии III и IV медленного сна соответственно.
Fig. 6. An example of a hypnogram obtained using a software package for a patient with a chronic impairment of consciousness
Note. 0 — wakefulness; 1 — stage I; 2 — stage II; 3 and 4 — stages III and IV of non-REM sleep, respectively.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для проверки корректности работы ПК было выбрано 300 эпох, размеченных двумя независимыми нейрофизиологами (Ю.Н. и М.К.): 100 эпох принадлежали фазе бодрствования, 100 — III или IV стадии медленного сна и 100 эпох — фазе быстрого сна. В случае рассогласования в проставлении метки использовались записи с видео-камер энцефалографа и мнение третьего нейрофизиолога (И.Р.). Для оценки специфичности и чувствительности алгоритма был выполнен анализ ROC-кривых в рамках бинарной классификации. Для первой кривой положительным классом являлась метка «бодрствование», для второй — «медленный сон», для третьей — метка «REM-сон» (рис. 7).
Рис. 7. ROC-кривые для трёх групп данных
Примечание. a — для фазы бодрствования; b — для фазы медленного сна; c — для фазы быстрого сна.
Fig. 7. ROC curves for three groups of data obtained
Note. a — for the wakefulness phase; b — for the phase of slow sleep; c — for REM sleep.
Средняя чувствительность и специфичность алгоритма составляют 87,9 и 70,1 соответственно. Средняя площадь под ROC-кривой — 0,790.
Полученные результаты позволяют заключить, что наилучших показателей рассматриваемые алгоритмы достигают при определении фазы бодрствования, что также является наиболее простой задачей для нейрофизиолога при анализе сна вручную.
Низкую специфичность при высокой чувствительности демонстрирует алгоритм определения фазы быстрого сна, что связано с его графоэлементным сходством с фазой бодрствования, а также нерегулярностью наличия быстрых движений глаз в фазе REM-сна у пациентов с ХНС и в то же время с частым присутствием нистагма в состоянии бодрствования. Информация о наличии нистагма, вводимая на старте работы программы, позволила несколько повысить показатели эффективности алгоритма, однако, вероятно, этот аспект нуждается в дальнейшей доработке. Исследования требует и сам вопрос формирования и наличия быстрых движений глаз у пациентов с тяжёлыми повреждениями головного мозга [21].
Чувствительность и специфичность определения глубокого медленного сна представляются удовлетворительными. При этом значение анализа медленного сна для пациентов с ХНС трудно переоценить, поскольку сон в отделении реанимации часто прерывается вследствие медицинских манипуляций, звуков, производимых оборудованием, нарушения светового режима в палате и других внешних причин. Именно оценка депривации и последующей отдачи глубокого сна могла бы более чётко выявить целостную архитектуру сна у таких пациентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пациенты с хроническим нарушением сознания представляют собой одну из самых сложных категорий с точки зрения анализа сна. Значительные повреждения коры головного мозга в виде выпадения большей части корковых нейронов, резкого уменьшения количества межнейронных связей в коре головного мозга, диффузного аксонального повреждения с последующей дегенерацией нейронов коры, сокращения активности каудальной группы ядер базальных отделов переднего мозга приводят к количественному снижению основных функциональных единиц нервной системы и их связей, что электрофизиологически отражается в виде замедления коркового ритма и неспособности пирамидных клеток к трансляции высокочастотной активности подкорковых структур. Все это делает затруднительным анализ полисомнографии у таких пациентов для нейрофизиологов, не специализирующихся на нарушениях сознания. При этом анализ сна у пациентов с хроническим нарушением сознания не только вошёл в клинические рекомендации в части дифференциальной диагностики нарушений сознания, но и зачастую является вопросом, тревожащим родственников пациента и медицинский персонал с неврологической точки зрения.
Таким образом, наличие программного комплекса, учитывающего особенности электроэнцефалографии пациентов с хроническим нарушением сознания и проводящего анализ сна и бодрствования в автоматическом режиме, могло бы не только быть полезным в качестве диагностического инструмента для невролога и сомнолога, но и способствовать более широкому распространению этой методики в клинической практике.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования и подготовке публикации.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с проведённым исследованием и публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов: Некрасова Ю.Ю. — разработка дизайна исследования, поиск научной литературы, написание статьи, Борисов И.В. — поиск научной литературы, написание и редактирование текста статьи, Канарский М.М. — поиск научной литературы, написание и редактирование текста статьи, Прадхан П. — реализация дизайна исследования, написание текста статьи, Майорова Л.А. — научное консультирование, реализация дизайна исследование, написание текста статьи, Редкин И.В. —научное консультирование, реализация дизайна исследование, написание текста статьи, Сорокина В.С. — разработка дизайна исследования, поиск научной литературы, написание и редактирование текста статьи. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
ADDITIONAL INFO
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors contribution: Nekrasova Yu.Yu. — development of research design, search for scientific literature, writing an article; Borisov I.V. — search for scientific literature, writing and editing the text of the article; Kanarskii M.M. — search for scientific literature, writing and editing the text of the article; Pradhan P. — implementation of the design of the study, writing the text of the article; Mayorova L.A. — scientific consulting, implementation of research design, writing the text of the article; Redkin I.V. — scientific consulting, implementation of research design, writing the text of the article; Sorokina V.S. — development of research design, search of scientific literature, writing and editing the text of the article. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Об авторах
Юлия Юрьевна Некрасова
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии
Email: nekrasova84@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4435-8501
SPIN-код: 8947-4230
канд. техн. наук
Россия, 127051, г. Москва, Петровка ул., д. 25, стр. 2Илья Владимирович Борисов
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии
Email: realzel@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5707-118X
SPIN-код: 7800-6446
научный сотрудник
Россия, 127051, г. Москва, Петровка ул., д. 25, стр. 2Михаил Михайлович Канарский
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии
Email: kanarmm@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7635-1048
SPIN-код: 1776-1160
младший научный сотрудник
Россия, 127051, г. Москва, Петровка ул., д. 25, стр. 2Пранил Прадхан
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии; Российский университет дружбы народов (РУДН)
Email: pranilpr@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3505-7504
SPIN-код: 8647-4329
научный сотрудник
Россия, 127051, г. Москва, Петровка ул., д. 25, стр. 2; 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6Лариса Алексеевна Майорова
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии; Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук
Email: major_@bk.ru
ORCID iD: 0000-0001-5112-7878
SPIN-код: 7383-5144
канд. мед. наук
Россия, 127051, г. Москва, Петровка ул., д. 25, стр. 2; 117485, Москва, ул. Бутлерова, д. 5АИван Валерьевич Редкин
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии
Email: iredkin@fnkcrr.ru
ORCID iD: 0000-0001-7008-2038
SPIN-код: 1854-9314
канд. мед. наук
Россия, 127051, г. Москва, Петровка ул., д. 25, стр. 2Виктория Сергеевна Сорокина
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии
Автор, ответственный за переписку.
Email: vsorokina@fnkcrr.ru
ORCID iD: 0000-0002-1490-1331
SPIN-код: 3407-1625
младший научный сотрудник
Россия, 127051, г. Москва, Петровка ул., д. 25, стр. 2Список литературы
- Multi-Society Task Force on PVS. Medical aspects of the persistent vegetative state (1) // N. Engl. J. Med. 1994. Vol. 330, № 21. Р. 1499–1508. doi: 10.1056/NEJM199405263302107
- Jennett B., Plum F. Persistent vegetative state after brain damage // The Lancet. 1972. Vol. 299, № 7753. Р. 734–737. doi: 10.1016/S0140-6736(72)90242-5
- The European Task Force on Disorders of Consciousness, et al. Unresponsive wakefulness syndrome: a new name for the vegetative state or apallic syndrome // BMC Med. 2010. Vol. 8, № 1. Р. 68. doi: 10.1186/1741-7015-8-68
- Owen A.M. Detecting Consciousness: A Unique Role for Neuroimaging // Annu. Rev. Psychol. 2013. Vol. 64, № 1. Р. 109–133. doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143729
- Giacino J.T., et al. Practice guideline update recommendations summary: Disorders of consciousness: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology; the American Congress of Rehabilitation Medicine; and the National Institute on Disability, Independent Living, and Rehabilitation Research // Neurology. 2018. Vol. 91, № 10. Р. 450–460. doi: 10.1212/WNL.0000000000005926
- Giacino J.T., et al. The minimally conscious state: Definition and diagnostic criteria // Neurology. 2002. Vol. 58, № 3. Р. 349–353. doi: 10.1212/WNL.58.3.349
- Walker M.P. The role of sleep in cognition and emotion // Ann. N. Y. Acad. Sci. 2009. Vol. 1156. Р. 168–197. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04416.x
- Diekelmann S., Born J. The memory function of sleep // Nat. Rev. Neurosci. 2010. Vol. 11, № 2. Р. 114–126. doi: 10.1038/nrn2762
- Van Cauter E., Spiegel K., Tasali E., Leproult R. Metabolic consequences of sleep and sleep loss // Sleep Med. 2008. Vol. 9, Suppl. 1. Р. S23-28. doi: 10.1016/S1389-9457(08)70013-3
- Besedovsky L., Lange T., Born J. Sleep and immune function // Pflugers Arch. 2012. Vol. 463, № 1. Р. 121–137. doi: 10.1007/s00424-011-1044-0
- Alekseeva E.V., Alasheev A.M., Belkin A.A., Kudrinskikh N.V., Nikov P.N. Prognostic evaluation of sleep in patients in a vegetative state // Anesteziol. Reanimatol. 2010. № 4. Р. 38–42.
- Cologan V., Schabus M., Ledoux D., Moonen G., Maquet P., Laureys S. Sleep in disorders of consciousness // Sleep Med. Rev. 2010. Vol. 14, № 2. Р. 97–105. doi: 10.1016/j.smrv.2009.04.003
- Kondziella D., et al. European Academy of Neurology guideline on the diagnosis of coma and other disorders of consciousness // Eur. J. Neurol. 2020. Vol. 27, № 5. Р. 741–756. doi: 10.1111/ene.14151
- D’Aleo G., Bramanti P., Silvestri R., Saltuari L., Gerstenbrand F., Di Perri R. Sleep spindles in the initial stages of the vegetative state // Ital. J. Neurol. Sci. 1994. Vol. 15, № 7. Р. 347–351. doi: 10.1007/BF02339931
- D’Aleo G., Saltuari L., Gerstenbrand F., Bramanti P. Sleep in the last remission stages of vegetative state of traumatic nature // Funct. Neurol. 1994. Vol. 9, № 4. Р. 189–192.
- Giubilei F., et al. Sleep abnormalities in traumatic apallic syndrome // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1995. Vol. 58, № 4. Р. 484–486. doi: 10.1136/jnnp.58.4.484
- Gordon C.R., Oksenberg A. Spontaneous nystagmus across the sleep-wake cycle in vegetative state patients // Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1993. Vol. 86, № 2. Р. 132–137. doi: 10.1016/0013-4694(93)90085-a
- Isono M., Wakabayashi Y., Fujiki M., Kamida T., Kobayashi H. Sleep cycle in patients in a state of permanent unconsciousness // Brain Inj. 2002. Vol. 16, № 8. Р. 705–712. doi: 10.1080/02699050210127303
- Valente M., et al. Sleep organization pattern as a prognostic marker at the subacute stage of post-traumatic coma // Clin. Neurophysiol. Off. J. Int. Fed. Clin. Neurophysiol. 2002. Vol. 113, № 11. Р. 1798–1805. doi: 10.1016/s1388-2457(02)00218-3
- Oksenberg A., Arons E., Sazbon L., Mizrahi A., Radwan H. Sleep-related erections in vegetative state patients // Sleep. 2000. Vol. 23, № 7. Р. 953–957
- Oksenberg A., Gordon C., Arons E., Sazbon L. Phasic activities of rapid eye movement sleep in vegetative state patients // Sleep. 2001. Vol. 24, № 6. Р. 703–706. doi: 10.1093/sleep/24.6.703
- Pavlov Y.G., et al. Night sleep in patients with vegetative state // J. Sleep Res. 2017. Vol. 26, № 5. Р. 629–640. doi: 10.1111/jsr.12524
- Landsness E., et al. Electrophysiological correlates of behavioural changes in vigilance in vegetative state and minimally conscious state // Brain J. Neurol. 2011. Vol. 134, Pt 8. Р. 2222–2232. doi: 10.1093/brain/awr152
- Bedini G., et al. Is Period3 Genotype Associated With Sleep and Recovery in Patients With Disorders of Consciousness? // Neurorehabil. Neural Repair. 2016. Vol. 30, № 5. Р. 461–469. doi: 10.1177/1545968315604398
- Arnaldi D., et al. The prognostic value of sleep patterns in disorders of consciousness in the sub-acute phase // Clin. Neurophysiol. Off. J. Int. Fed. Clin. Neurophysiol. 2016. Vol. 127, № 2. Р. 1445–1451. doi: 10.1016/j.clinph.2015.10.042
- Rossi Sebastiano D., et al. Significance of multiple neurophysiological measures in patients with chronic disorders of consciousness // Clin. Neurophysiol. Off. J. Int. Fed. Clin. Neurophysiol. 2015. Vol. 126, № 3. Р. 558–564. doi: 10.1016/j.clinph.2014.07.004
- Rossi Sebastiano D., et al. Sleep patterns associated with the severity of impairment in a large cohort of patients with chronic disorders of consciousness // Clin. Neurophysiol. 2018. Vol. 129, № 3. Р. 687–693. doi: 10.1016/j.clinph.2017.12.012
- Avantaggiato P., et al. Polysomnographic Sleep Patterns in Children and Adolescents in Unresponsive Wakefulness Syndrome // J. Head Trauma Rehabil. 2015. Vol. 30, № 5. Р. 334–346. doi: 10.1097/HTR.0000000000000122
- Lacourse K., Delfrate J., Beaudry J., Peppard P., Warby S.C. A sleep spindle detection algorithm that emulates human expert spindle scoring // J. Neurosci. Methods. 2019. Vol. 316. Р. 3–11. doi: 10.1016/j.jneumeth.2018.08.014
- Purcell S.M., et al. Characterizing sleep spindles in 11,630 individuals from the National Sleep Research Resource // Nat. Commun. 2017. Vol. 8, № 1. Р. 15930. doi: 10.1038/ncomms15930
- Massimini M. The Sleep Slow Oscillation as a Traveling Wave // J. Neurosci. 2004. Vol. 24, № 31. Р. 6862–6870. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1318-04.2004
- Carrier J., et al. Sleep slow wave changes during the middle years of life // Eur. J. Neurosci. 2011. Vol. 33, № 4. Р. 758–766. doi: 10.1111/j.1460-9568.2010.07543.x
- Agarwal R., Takeuchi T., Laroche S., Gotman J. Detection of Rapid-Eye Movements in Sleep Studies // IEEE Trans. Biomed. Eng. 2005. Vol. 52, № 8. Р. 1390–1396. doi: 10.1109/TBME.2005.851512
- Hori T., et al. Proposed supplements and amendments to “A Manual of Standardized Terminology, Techniques and Scoring System for Sleep Stages of Human Subjects”, the Rechtschaffen & Kales (1968) standard // Psychiatry Clin. Neurosci. 2001. Vol. 55, № 3. Р. 305–310. doi: 10.1046/j.1440-1819.2001.00810.x
Дополнительные файлы